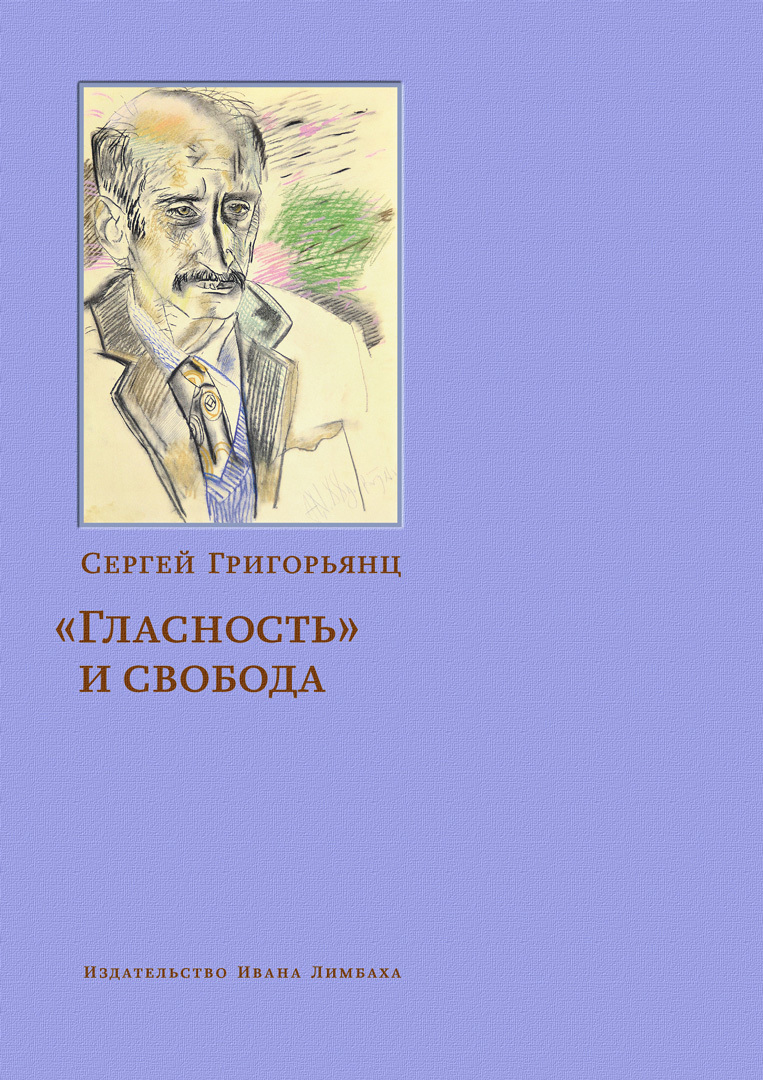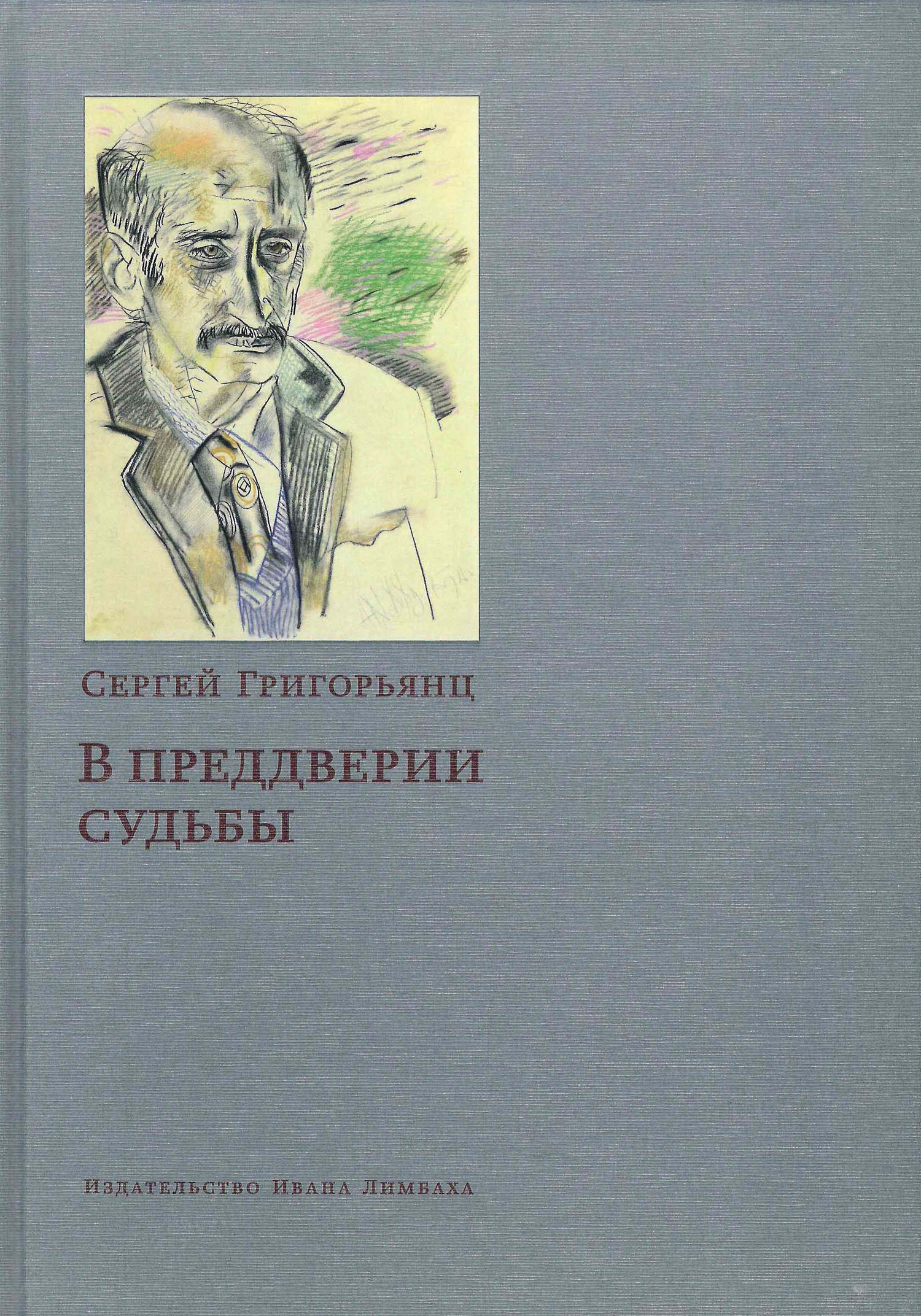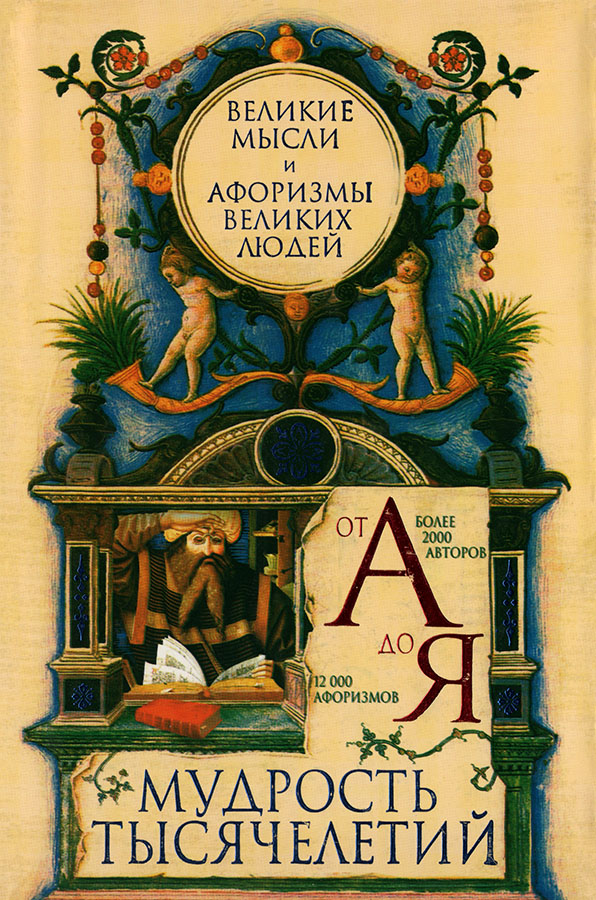Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мемуарная книга известного журналиста и правозащитника, бывшего политзаключенного Сергея Ивановича Григорьянца повествует о начале перестройки, об издании «Гласности» – одного из первых неподцензурных журналов в СССР, о попытках противостояния КГБ и важнейшей инициативе фонда «Гласность» – создании Международного трибунала по военным преступлениям в Чечне. В книге содержится глубокий анализ состояния общества на рубеже 1980–1990-х гг. и своего рода подведение итогов правозащитного движения в России.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Иванович Григорьянц»: